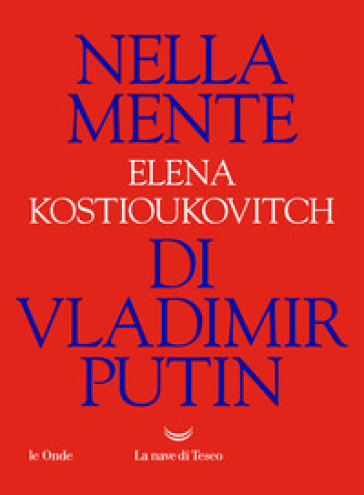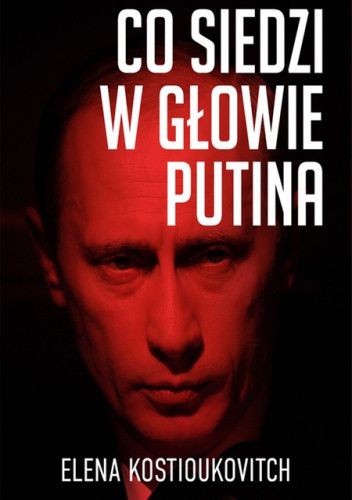http://magazines.russ.ru/nlo/2004/70/kost27.html
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2004, №70
МИКРОАНАЛИЗ СТИЛЯ И ПРЕТВОРЕНИЕ ЯЗЫКА
ЕЛЕНА КОСТЮКОВИЧ
Ирония, точность, поп-эффект
(к заметке М.Л. Гаспарова о переводе романа У. Эко «Баудолино»)
Работая в издательстве в Италии, я вижу, насколько широко распространено здесь представление о старении переводов. Время от времени издательства предлагают и рекламируют новоявленные “свежие” переводы классики, изложенные более современным языком и очищенные от устаревших выражений. Русская же книжная традиция с пиететом относится к стилистике давних переводов. Прелесть и ценность давних переводов обусловлена как раз их гарантированно чистым архаичным языком. Он создает у читателя эффект, близкий к эффекту чтения оригинала. Кому же придет в голову омолаживать “Божественную комедию”, отказываться от Лозинского? Конечно, наряду с “Декамероном” в переводе А.Н. Веселовского существует и перевод Н.М. Любимова, но многим (мне в том числе) кажется более “настоящим” старый перевод.
Сказанное относится к текстам, созданным давно и переводившимся спустя столетия. Но по-иному, полагаю, следует относиться к тем произведениям, которые создаются в наше время и переводятся всего лишь через несколько лет после написания. Будь эти сочинения сколь угодно стилизованными, все равно переводимое произведение непременно связано с нашим временем, и даже если не совпадает с нашей эпохой язык – так или иначе совпадает образ мыслей. Читателю понятно, что автор глядит в глубь исторических пластов через подзорную трубу времен новейших, развлекаясь нетрудными и приятными игрушками — псевдоанахронизмами: этот прием придает прелесть сюжетам путешествий во времени, словно бы зовет читателя сопровождать булгаковского Ивана Васильевича. Мы, люди XXI века, с удовольствием читаем про XII столетие, — зная, как будет развиваться после описываемых событий история мира вплоть до нашего дня. В то же время и герои, формально принадлежащие XII веку, не упустят случая подмигнуть сегодняшним читателям, бросить комическую “реплику в партер” современности. Именно подобные уловки использует Умберто Эко неоднократно и в “Имени Розы”, и в “Баудолино”, вкладывая в уста героям двусмысленные фразы:
...в одной из стран, чтобы выразить согласие, произносят: ок.
— Ок?
— Ок.
— Удивительно. Продолжай же.
(Эко У. Баудолино. СПб.: Симпозиум, 2003. Серия “Экслибрис”. С. 39).
В принципе человек XII века мог так сказать, имея в виду не то, что вы подумали, а Прованс: в провансальском языке “ок” (“ос”) означало (и ныне означает) “да”, и отсюда второе название этой области — Лангедок, то есть “язык “ок””, “lange d’oс”. Но понятно и то, что Эко играет здесь на исторической омонимии.
Умберто Эко составляет не подобия хроникальных текстов, а свободные композиции из элементов исторической прозы, отмечая своим авторским присутствием и дискурс, и стиль, и хронологическое своеобразие языка. Поэтому при переводе его романов был бы неуместен принцип гладкой стилизации. Единственное исключение “от противного” составляет “Остров Накануне”, который глобально стилизован, барочен, но, как понятно читателю, роман этот чересчур уж барочен, преувеличенно прециозен, а значит, стиль нацелен на то, чтоб вызвать настороженную реакцию. В “Острове Накануне” стилистический эксперимент автора, предопределивший задачу переводчика, состоял в том, чтобы по части барокко оказаться “святее римского папы”, “перебарочить” нормальные сочинения XVII века. На основании собственного опыта перевода “Подзорной трубы Аристотеля” Эммануэле Тезауро (1664) – трактата, не только созданного в том самом XVII веке, но и посвященного, в частности, стилистике, — я могла убедиться в том, что стиль “Острова...” вычурнее, нежели средний стиль Сеиченто, принятый автором за точку отсчета. Поэтому мне, переводя этот роман, пришлось взгромождать целые груды замысловатых метафор, дабы и читателю передавалась мысль, что все это барокко немножко “понарошку”, что стиль в данном случае и вообще стиль для Эко — не предмет поклонения, а предмет ироничного самоопровержения и должен восприниматься как орнамент, как художественное оформление тематики, идущей от нашей собственной эпохи.
Конечно, не всегда форма и границы иронических фигур различаются легко и сразу. Расплывчатость границы между серьезным и чересчур серьезным, когда чересчур серьезное перетекает в ироничное, — один из признаков того типа творчества, который называют постмодернизмом, а можно было бы назвать и поп-структурализмом. Переводя подобную литературу, нужно осознавать это свойственное материалу качество. В каком пассаже текста переводчик даст этому качеству легонько обозначиться, в каком он ударит по струнам поэнергичнее и выведет иронию на первый план — решается законами не исходного, а окончательного текста. Надо ловить случай, когда язык сам пригласит к намеренной непрозрачности, даст возможность легонько подшутить. Нет ничего хуже натужного перевода шутки, а вот в случае, когда словарь позволяет подхулиганить, и невинность (верность оригиналу) соблюсти, и капитал веселости приобрести, — грех не попользоваться. Идеальная ситуация, когда игра возникает в той же точке, где возникала и соответствующая же игра слов в том же месте исходной книги: “vieille – oreille” — “старуха была глуха, как пень, на оба уха”... Но не всегда работа ведется в таких совершенно идеальных условиях.
В романе “Баудолино” автор то и дело вводит в язык анахронизмы и нарушает единство стиля, приглашая в свою стилизацию языковых гостей из будущего, которые ему нужны для атмосферы полуправды-полувымысла. От читателя не требуется верить, что Баудолино – вальтер-скоттовский герой, то есть частное лицо в контексте большой истории, с которым и предстоит ему, читателю, самоотождествиться. Нет, не случайно роман начинается первой главой, в которой Баудолино шпарит невесть что и на черт знает каком языке и сам по себе баудолинов способ говорить и мыслить выступает главным объектом трудоемкой расшифровки. Читатель воспринимает Баудолино все время по-разному: то изблизи, то извне, то с пониманием, то с удивлением, а часто и с недоверием. Баудолино становится совсем уж непроницаемым и чужим в последних главах, когда он эмансипируется, готовясь к разрыву с романной действительностью, к уходу в пустоту.
Язык этого нелинейного героя, повторим, анахроничен. Баудолино спрашивает: “Un momento, dove sta l’Oriente?” (p. 80; цитирую по первому итальянскому изданию романа — Milano: Bompiani, novembre 2000). В контексте XII века это выражение звучит так же комично, как и “минуточку” по-русски, разрушая любые планы исторического правдоподобия и напоминая кинофильм “Формула любви”: “уно, уно, уно, уно моменто...” Баудолино вообще строит фразу по самым современным городским шаблонам: “Ma cosa stiamo a parlare del Gradale, — disse Baudolino” (p. 141). “Il fatto П, padre mio, — disse, — che da quello che П accaduto, dovresti imparare...” (p. 209). Плеонастическая вставка “Il fatto П...” — “штука в том” — допускается словарями (Il Grande dizionario UTET della lingua italiana) только для XX века. “Tu eri al corrente di questa storia, signor Niceta? — disse Baudolino” (p. 230). “Ты в курсе...?” — перед нами самые привычные выражения повседневной речи.
Передавая такой юмор языковых ситуаций, переводчик рискует достичь просто эффекта неграмотности. Лучше уж пользоваться синонимическими подменами внутри привычных формул. Лучше уж вместо “Да простит нас господь” вставлять в текст “Да извинит нас Иисус Христос”. Во-первых, трудно сомневаться в том, что переводчик здесь не зарапортовывается, а что-то имеет в виду. Да и слово “извинит” само-то по себе – хорошее, старое, оно содержит идею “отпущения вины”, а при этом в узусе не принято: в данном случае узус велит употребить “простит”. Так вот и создается игра, так вот и воспроизводится тот эффект “пластмассового языка”, за который корят Умберто Эко некоторые пуристы и который почитают, наоборот, его сильной стороной любители словесного юмора.
Конечно, подмена привычной части в идиоме непривычным синонимом отличается от приема, который был употреблен у автора для создания иронического эффекта. Но в той же мере отличается от техники автора (игры диалектом) техника переводчика (игра синтаксисом) в первой главе “Баудолино”, перевод которой является известным exerciсe du stile и который, похоже, в русском варианте вызвал приятие, а не неприятие. Мы читаем и знаем, что на некоторых языках (немецком, испанском, венгерском) эту главу переводчики передали в виде громады “исконной” лексики, так, чтобы создать скорее декоративное впечатление, — в результате у них читатель, оглоушенный всей этой исконностью и посконностью, пугливо отказывается вникать в действие. Я предпочла избрать иную технику, ради того чтобы с первых же строк романа предложить читателю понимание, а не наблюдение, чтобы вовлечь читателя в активную дешифровку сюжета и подтекстов. Подмена техники, таким образом, состоит в арсенале используемых приемов. Другой специфический и активно используемый здесь прием – предложение неологизмов, например доселе не существовавших в русском обиходе “волхвоцарей”. Re Magi – это не просто Magi, ибо Magi – любые волшебники, волхвы. Контекст романа, где много говорится о правителях-священниках, потребовал выработать отсутствующий в русском лексиконе термин “волхвоцари”. Кто знает, может, приживется...
Приличный “поп-эффект” сможет образоваться, лишь если читатель будет изначально полагать, что все возможно и что ничто не случайно. Прежде чем негодовать на предполагаемые аномалии, пусть читатель продумает самые удивительные возможности адекватного присутствия этих аномалий в вымышленной художественной среде. Сам Эко в своей новой книге об искусстве перевода “Dire quasi la stessa cosa” описывает ситуацию, в которой адекватен перевод с английского “it’s raining cats and dogs” как “идет дождь кошками и собаками” (в юмореске, посвященной студенту-неудачнику, изучающему язык по методу Берлица). Желая передать бурлеск, мы иногда и заострим степень бурлеска. Нередко, как при переводе “Баудолино”, может быть, и вызовем на дуэль нормативный русский язык. Бурлеск ждет от пишущего резких решений, ирония приглашает форсировать ее при переводе, поп-эффект должен муссироваться и выделяться более выпукло. В “Энеиде” И. Котляревского, создававшейся по образцу “Вергилия наизнанку” Скаррона, все краски донельзя резкие:
Еней був парубок моторний
І хлопець хоть куди козак,
Удавсь на всеє зле проворний,
Завзятiйший од всiх бурлак.
Но греки, як спаливши Трою,
Зробили з неї скирту гною,
Вiн, взявши торбу, тягу дав...
При мягких, элегантных решениях радости для исполнителя больше, но возникает риск, что тебя не поймут. И все же, когда слышатся в речи Фридриха Барбароссы модуляции райкомовских пропесочиваний, значит, переводчик сумел работать созвучно с идеей Умберто Эко насчет того, что диалоги Барбароссы и его придворных баронов не сильно отличались “от собеседований Джорджа Буша с его политическими советниками”[1].
1) Эко У. Баудолино. СПб.: Симпозиум, 2003. С. 541.