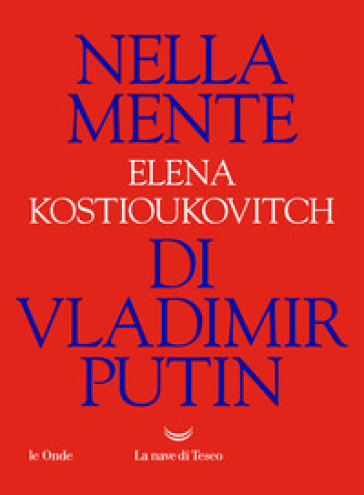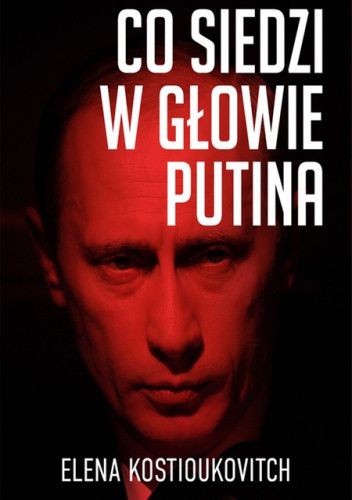• НЕРИ ПОЦЦА. СЕМЕЙНАЯ КОМЕДИЯ
Pozza, Neri. Commedia familiare Milano, Mondadori, 1975. 517 р.
• НЕРИ ПОЦЦА. ГОРОД НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Pozza, Neri. Una citta' per la vita
Milano, Mondadori, 1979. 202 p.
Документальная форма изложения в высшей степени естественна для Нери Поцца (род, в 1912 г.). Во-первых, он репортер и газетный работник (сотрудник "Стампы", "Мондо", "Фьера Леттерариа", глава издательства в Виченце, носящего^го имя). Во-вторых, он известный автор исторических изысканий и монографий о художниках позднего Возрождения— Джорджоне, Веронезе, Тициане. Свою профессию скульптора и резчика по дереву — в которой, кстати, Поцца весьма преуспел, имея на счету двадцать две персональные выставки, — он уже давно "переплавил" в деятельность историка и популяризатора искусства, причем снискал титул "Вазари нашего -времени". Наконец, Поцца может с полным правом называться и историком-краеведом, и архивистом, и археологом — стоит перелистать составленный им бедекер по Виченце и ее окрестностям. 'Создается даже впечатление, что, "не привязавшись" к документированной реальности, Поцца писать просто не может. Обязательными хронологическими отсылками снабжены его стихотворения в сборниках 1946 и 1969 гг.; в сборниках новелл, образующих единый цикл "Венецианских историй" ("Процесс о ереси", 1970, и "Греческая девушка", 1972), к каждому из рассказов прилагаются указатели, комментарии, схемы, а к каждому сборнику — синхронистические таблицы с 1448 по 1685 г., глоссарии и т. п.
И с подобным же благоговением историка автор обращается к периоду собственного детства и отрочества в рассматриваемых первых книгах саги о семействе Поцца — Вольпи.
В 1912 году в семье Уго и Реденты Поцца (а следует заметить, что нгс имена, кроме собственного, автор "Города на всю жизнь" сохраняет п неприкосновенности) рождается мальчик Сальваторе (читай: Нери). В действии он почти не участвует и находится на периферии фабулы. Он упоминается лишь как "Сальваторе, сын Уго", или "внук синьоры Деле", ибо центр повествования первой книги — отец автора, а второй — его бабка. Монтируя "сказовые" куски с отрывками хроник и деловых бумаг, Поцца сообщает повествованию характер "реконструкции" и "документа эпохи".
Многообещающий скульптор и художник, недавний парижанин, Уго Поцца попал на фронт в первые дни войны, голодал, мерз в окопах, обовшивел, попал в плен, чудом бежал. В первой главе "Виченца, 1919" он возвращается домой и с необычной для себя внутренней дистанции рассматривает как незнакомых людей жену Реденту, детей Саяьваторе и Клару, отца — дона Джованни, тещу — матушку Деле, свойственников Гвидо, Пьетро и Паоло. Глазами Уго и видит читатель впервые персонажей, которым предназначено населить три тома семейной хроники.
Из прерывистых рассказов Уго о четырех годах на фронте становится ясно, отчего не дает ему покоя тихая, безжалостная тоска, отчего приходят по ночам кошмары. Последний из эпизодов этой части созвучен военным воспоминаниям Уго: он видит, как на улице члены фашистской скуадры заставляют не угодившего чем-то мэра города прилюдно выпить бутыль касторки (аналогичный эпизод есть в "Амаркорде" Феллини). Маленький итальянский город, понемногу усваивающий новую государственную религию, уже сейчас кажется не слишком-то уютным. А ведь пока только 1919-й год.
48
В следующих частях ("Вербное воскресенье", 1924, и "Лето убийства Маттеотти", 1924) Уго, осмотревшись в новой действительности, прибившись к какому-никакому заработку, продолжает тащить постылый семейный воз. Но он упорно ищет точку приложения своим немалым силам и способностям. О радостях творчества нечего и думать: какие времена — такие и заказы, а ваять дикторские пучки и свастику он не намерен. Чем дальше, тем тщательней штудирует Уго труды Маркса, Ленина, теоретиков социализма. Некоторые из этих книг он начал читать еще на фронте. Но теперь овладение политической наукой происходит на новом качественном уровне: Уго слушает еженедельные лекции местного социалиста Анджело Маргериты, которому суждено погибнуть в Маутхау-зене. А до многого Уго доходит и своим умом. По вечерам в его мастерской заседает историко-политический семинар.
По мере того как итальянский фашизм принимает более определенные очертания, все осознаннее становится общественная позиция Уго Поцца. Если в 1922 году этот небритый меланхолик еще здоровался, хотя и неохотно, со своим шурином, чернорубашечником Гвидо, разговаривал с ним, пытался в чем-то переубедить, в 1930 году фашистская организация Виченцы уже заносит его первым номером в список "первостепенно опасных, ведущих целенаправленную подрывную деятельность лиц". Уго бежит из города ночью, покинув дом и семью. Сюжетная линия Уго на этом кончается. Из биографии автора нам известно, что через несколько лет Уго Поцца пал как герой Сопротивления, а его сын Нери — мальчик Сальваторе — в 1939 году отказался идти в муссолиниевскую армию и оставшееся до крушения фашизма время провел в тюрьмах и на каторге. ;
Надо заметить, что по прочтении "Семейной комедии" ее живые и полнокровные герои надолго остаются в памяти, а сюжет тут же забывается. Мы прекрасно помним сопляка Гвидо, который, едва вернувшись из армии, поспешил напялить черную рубаху, а через несколько месяцев в ночной драке сложил ни за что ни про что свою глупую голову; подверженную религиозной мании старую девицу тетушку Льету; благодушного дядюшку Джованни, который всю жизнь был уверен, что детей можно воспитывать только в Париже, а если это невозможно, "то пусть по крайней мере не ходят босиком по булыжной мостовой!".
Запомнить и пересказать сюжет "Семейной комедии" очень трудно, и создается впечатление, что сумбурность книги — это особый прием и что автор, намеренно допуская алогизмы и непоследовательность в развитии событий, отдавая массу пространства перечислению несущественных фактов, замешивая повествование до такой степени хаотичное, что сама идея членения его на главы начинает казаться неестественной, добивается чего хочет: его книги очень похожи на безыскусное жизнеописание, потому что строятся не по закону художественной симметрии, а по принципу "так было...".
"В этой долгой, тщательно датированной хронике нет ничего романического... нет ни одного факта, ни личности, ни события, которые не были бы взяты из действительности... Порой автор был наблюдателем событий, а порой —'• слушателем рассказов; для большей уверенности он соотносился с документами, а чаще всего — просил объяснений у главных действующих лиц этой истории..." — пишет Нери Поцца в "Примечании" к "Семейной комедии", которое, по-видимому, следует читать как программу трилогии и ключ к последующим томам.
"Объяснения" действующих лиц — это сказовые (а кто знает? — возможно, и вправду стенографически-документальные) главы первого тома и весь текст второго. Это глава "Летний отдых (1926), в которой Лиза, двоюродная бабка Сальваторе, вспоминает о женитьбе дедушки Джованни. А также глава "1928—1932", в которой дедушка Джованни вспоминает "театральные сезоны", устроенные • им в свое время в городишке РекОаро неподалеку от Виченцы, театр "Лондонский Тауэр", разместившийся в бывшей баньке, и кукольника Горно дель Акуа, единственного актера и директора труппы "Лондонского Тауэра". Начинает "объяснять" свою жизнь и глава семьи матушка Деле ("Матушка Деле", 1923), но таинственно замолкает посреди фразы, и лишь в конце первого тома, в "Примечании", автор разрешает читательское недоумение:
"Некоторые фигуры, чуть показавшись на этих страницах, ояать спрятались в тень. Думаю, догадливый читатель уже понимает, что основное действие матушки Деле развернется во втором акте "Комедии"... Документы и наброски, которыми я располагаю, позволяют мне надеяться, что через небольшое время матушка Деле заговорит сама, собственным голосом, на собственном языке..."
У матушки Деле "собственный язык" в прямом смысле слова. Она ведь неграмотная крестьянка и говорить умеет только так, как привыкла с детства, — на редкой разновидности венецианского диалекта. Поэтому к "Городу..." прилагается словарь.
Но, поскольку матушка Деле писать тоже не умеет, функции автора в этой книге Поцца по сравнению-с предыдущей расширены: он берет на себя и роль "писца", а в двух или трех местах даже родает голос, задает наводящие вопросы, пытается расшевелить дремлющую старушку. В примечаниях к "Городу на всю жизнь" он снова уверяет читателя, что "все вышеприведенное есть стенографическая запись".
"Город на всю жизнь" вовсе не является хронологическим продолжением первой части: напротив, по сравнению с "Семейной комедией" точка отсчета перемещается назад. Ведь матушка Деле — рассказчица второй книги — помнит гораздо "дальше", чем ее зять Уго; родилась она в 1854 году. Она помнит и "великий голод 1882 года", и "великое холерное поветрие 1886 года", и "первые забастовки (1873—1896)". Память матушки Деле хранит такие курьезы, как приключение ее племянницы Эрминии ("Рекрутский набор", 1908), репатриантки из Буэнос-Айреса, которой в один прекрасный день пришла повестка явиться на военную службу. Как оказалось, во въездные бумаги Эрминии, в графу "пол" закралась ошибка. Но каша заварилась серьезная, Эрминию арестовали, и ей пришлось самым недвусмысленным образом доказать рекрутской комиссии свою принадлежность к невоеннообязанному полу.
Словоохотливая матушка Деле обожает притчи. Старушка разумна и бережлива, но ее кредо: "Величайшая напасть из тех, что могут приключиться с человеком, — это родиться богатым или нечаянно разбогатеть". Поэтому, обладая способностью угадывать выигрышные номера в лото, матушка Деле нарочно сбивает с толку все свое семейство: шальные деньги, дескать, счастья не приносят.
Повествуя о трагических жизненных ситуациях, матушка Деле обнаруживает детальное знание человеческих характеров, безошибочную интуицию и, как ни странно, порядочное знакомство с политической обстановкой. Ее рассказ "Дети стали портиться" (1923) о том, как три сына графа Тонон де Ла Виола втянулись один за другим в фашистское движение, и так же, один за другим, бессмысленно гнбли на глазах старика отца, поразительно четок в анализе и выводах: так бы говорил и сам Уго Поцца.
Впрочем, "так сказал бы я Уго" — не комплимент ни для матушки Деле, ни для автора: похоже, что оба они убеждены в превосходстве "нутряного", врожденного крестьянского разума над "книжным", благоприобретенным, городским:
"...Конечно, когда я молодая была, времена были и точно дикие Больше было голода, и напастей было больше, и болезней, и обиды. Сейчас от холеры мало кто погибает. Народ стал гордый, ученый, все одеты богато, но никто уже не верит в божью справедливость. Ты вот дикие времена ругаешь, а сам засматривался когда-нибудь, как муравьи строят свой дом? Как вырастает дерево? Как живут ослы, лошади, собаки? Вот она, школа жизни, не хуже вашего книжного ученья!.."
"Город на всю жизнь" также оснащен подробным "Приложением", которое, однако, должно было бы скорее печататься вместе с "Семейной комедией": оно состоит из смет, финансовых отчетов, теат-
50
ральных афишек и прочих документов, иллюстрирующих историю создания в Рекоаро театра дедушки Джованни "Лондонский Тауэр". Рассказу об этом театре отведено немалое место в первой книге. Там же повествуется, как, вынув из секретера красного дерева бумаги, хранящиеся там с 1894 года, бабушка Лиза торжественно передает их Саль-ваторе, беря с него обещание "все запомнить и записать", а бумаги привести в порядок и беречь для правнуков. И, перелистав пухлую папку (кто будет читать столбцы цифр?), Сальваторе-Нери выполняет обещание. Результат перед нами.
Но ведь одно дело записать бабушкины рассказы или подклеить в особую тетрадку дедушкин архив, и совсем другое — опубликовать эти свидетельства как художественное произведение. Попадая в контекст художественной литературы, документальные (или стилизованные под таковые) хаотичные записи обычно обнаруживают скрытый доселе внутренний ритм и образуют не вялую череду, а значимую композицию. Так становятся художественными фактами книги документальной серии "Откровенные рассказчики" '. Так пишет в последнее время Шаша ("Сицилия как метафора"). Так делаются коллажи вроде "Выбора" Джузеппе Десси, "Наивной жизни" Витторио Горрезио и "Пармского праздника" Альберто Бевилакуа. Мы назвали несколько книг, вышедших только в последние год-два и объединенных тем, что все они отталкиваются от узколокального фольклора: Сицилия, Сардиния, Кунео, Парма. Книги Поцца, безусловно, претендуют на место в этом ряду.
(Если уж говорить о литературных "подсказках" автору, то нельзя не упомянуть из книг прошлого "Отживший мирок", "Современный мирок" и "Святой" Антонио Фогаццаро: в трилогии Поццы такая же, как у Фогаццаро, композиция, такой же язык, то же время и место действия — Виченца рубежа веков. Да Поцца и не скрывает ориентации на трилогию о семействе Майрони. Недаром Антонио Фогаццаро — один из героев воспоминаний тетушки Деле. Из инструментария же современной литературы, несомненно, используются автором некоторые приемы построения латиноамериканской прозы. Фигура таинственной "вещуньи", "неумирающей" матушки Деле плохо вписывается в общую "непричесанно-документальную" эстетику. Матушка Деле в сравнении с другими героями явно стилизована, мифологизирована, укрупнена.)
При сравнении трилогии Поццы с "Пармским праздником" обнаруживается, 'что в книге Бевилакуа блистательная композиция и яркость материала все время держат читателя в напряжении, а длинноты, если таковые и есть, — незаметны. Меж тем главный недостаток трилогии Поццы, то есть двух ее первых книг, выявился при том же сравнении: они, увы, рыхловаты, длинноваты и скучноваты.
Этот вывод относится в большей степени к первому тому. Справедливости ради надо сказать, что "Город на всю жизнь" сколочен крепче — быть может, за счет преимуществ сказовой интонации. Кроме того, он в два с половиной раза короче "Семейной комедии" при равном примерно количестве событий. Эти изменения обнадеживают: ведь, если верить автору, на выходе уже третья, завершающая книга саги — "Идеальные годы".
См. "Соврем, худож. литература за рубежом", 1980, № 1.